/
ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
Взгляд из окопа
Сегодня, в рубрике «взгляд из окопа» мы предлагаем Вашему вниманию воспоминания ветерана Великой Отечественной войны – Герасимовой Марии Александровны. Воспоминания построены в виде вопросов и ответов. Вопросы задавал наш специальный корреспондент – Родион Шукалов.
- Мария Александровна, расскажите, пожалуйста, где вы родились, где жили перед Великой Отечественной войной, чем занимались? Как для Вас началась война?
Я родилась в деревне Чудцево Ново – Петровского района Московской области 3 июля 1924 года. Моя мать умерла, когда мне было три года, поэтому нас, а у меня было еще две сестры, воспитывал один отец. Детство свое я провела в деревне, где у нас жили дед и бабушка. Когда уже училась в школе, мы переехали в Москву. Отец стал работать пожарным. После окончания учебного года, папа обычно увозил нас в Чудцево, где мы проводили почти все лето, помогая старикам по хозяйству и на огороде. Так было и в 1941 году. Уже в июне, примерно за неделю до начала войны, отец приехал в деревню и забрал нас в Москву.
О нападении фашистской Германии на нашу страну я впервые услышала по радио 22 июня 1941 года. Мы с ребятами во дворе были очень сильно возмущены: как это можно стоять в стороне, когда коварный враг нагло топчет нашу священную землю, когда Родине угрожает смертельная опасность. Так мы были воспитаны. 23 июня, я и мои подруги отправились в военный комиссариат, чтобы пойти добровольцами на фронт. Мы считали, что наше место на фронте и что присутствие наше там крайне необходимо. Но в военкомате нашу просьбу отклонили, пообещав прислать нам повестки, когда мы подрастем. На этом мы не успокоились и решили написать письмо Ворошилову, что бы нас отправили на фронт.
Через некоторое время мы получили повестки явиться в райвоенкомат. Около здания военкомата толпилось много людей. У большинства из них были угрюмые, озабоченные лица. Мы надеялись уехать на фронт, а нас четверых отправили работать в госпиталь № 1786, который находился недалеко от троллейбусного парка.
Раненых уже прибывало очень много. Мы работали санитарками, ухаживали за ранеными и обучались медицине на курсах, которые действовали при госпитале.
- Но Вы не оставили мыслей о фронте?
Честно говоря, думать о фронте было просто некогда, было очень много работы. Осенью, когда враг приближался к Москве, наш госпиталь эвакуировали, а меня порекомендовали на работу санитаркой в санитарный поезд № 1019, который курсировал по маршруту Москва – Горький.
- Расскажите, пожалуйста, о работе в поезде.
В санитарном поезде было много моих сверстниц, и на наши девичьи плечи легла вся забота о раненых. Не зная ни дня, ни ночи, мы работали в невероятно трудных условиях. Спали по 3-4 часа в сутки, а после тяжелых боев не спали вообще. Раненые размещались в теплушках. Мы сами проводили погрузку и разгрузку раненых, выносили и хоронили умерших. Казалось, что раненые солдаты были довольны нашей работой. Мы очень жалели их, видя, какие они терпят мучения. Старались морально поддержать каждого, обогреть ласковым, теплым словом. Видя убитых и искалеченных, их невыносимые физические муки, мы еще больше проникались ненавистью к врагу. Проникались желанием мстить, непосредственно участвовать в его истреблении.
- И все же, что Вам больше всего запомнилось из этого периода войны?
Запомнилась больше всего первая бомбежка. Наш поезд довольно часто подвергался бомбардировке фашистскими самолетами. Гибли раненые, медицинские работники. У нас даже паровоза в составе было два – один впереди, другой в хвосте, что бы легче было растаскивать вагоны при прямом попадании.
Это произошло осенью 1941 года, точного числа я не помню. Я только что получила новую военную форму. Мы загрузились ранеными и тронулись в обратный путь. В это время налетели немецкие самолеты. Вокруг страшно загрохотало. Я очень испугалась. Одна из бомб угодила прямо в середину состава и два вагона загорелись. В промежутках между разрывами я слышала ужасные человеческие крики. Мы стали вытаскивать раненых солдат из горящих вагонов, а фашистские летчики, отбомбившись, поливали по нам из пулеметов. Не помню, сколько продолжался этот кошмар, но потом, вдруг, стало тихо, только слышались стоны раненых. Мы с девчонками оглядели себя. Все с ног до головы в саже, кое-где прогорели гимнастерки, руки в крови. После этого я не раз побывала под бомбами врага, но бомбежки санитарного поезда забыть не могу.
- Как и когда Вы попали на фронт?
Мы сбежали. В санпоезде у меня было три подруги – Дуся Филина, Дуся Иванова и Таисия Герасина. Мы решительно настроились на побег к фронту, только и ждали удобного случая. И такая возможность нам представилась. В августе 1942 года, когда наш санитарный поезд стоял на станции Москва Сортировочная, мы пересели в воинский эшелон, идущий к фронту. Поезд тронулся, а мы даже не знали, куда нас везут.
По дороге мы всюду видели следы варварских разрушений. От большинства железнодорожных станций остались одни названия. Помню станцию Котлубань. Там горели какие-то склады и разбитый эшелон с хлебом, лежали трупы людей, обгоревшие трупы лошадей. Под откосом и на путях валялись покореженные цистерны и вагоны. Наши сердца еще больше наливались злобой.
Высадились мы ночью, в открытом поле, где-то в районе Паньшино – хутор Вертячий, недалеко от Сталинграда. Сначала нас прикомандировали к санитарной роте, а потом распределили по разным подразделениям. Меня перевели в штаб 83 гвардейского стрелкового полка 27 гвардейской стрелковой дивизии. Работая санинструктором, я обслуживала автоматчиков, разведчиков, связистов и работников штаба, нуждавшихся в моей помощи. Так началась моя фронтовая жизнь.
- Кто был командиром Вашего полка?
Командиром нашего 83 гвардейского стрелкового полка был подполковник Югатов Михаил Иванович, человек строгий, но справедливый. Человек очень смелый и уважавший солдат. Все его очень любили.
- Расскажите о первом бое, в котором Вам довелось участвовать.
Это было в районе хутора Вертячий. Мы находились в обороне. Враг исступленно делал попытки прорваться к Волге. Помню такой случай: на один из стрелковых батальонов, державших очень растянутый участок обороны, враг бросил 17 танков. Противнику удалось вклиниться в передний край нашей обороны. Создалась угроза прорыва. В группе, брошенной на помощь батальону, оказалась и я. Так получилось, что я с двумя сержантами – Сашей и Володей, бежала впереди, бросившись на немецких автоматчиков, сопровождавших танки. Помню, Саша кричал мне вслед: « Маринка, назад! Маринка, назад! Нас много – ты одна!». Вдруг, его голос потонул в грохоте стрельбы и взрывов. Я обернулась и увидела, что он упал. Я нагнулась к Саше – у него были перебиты болванкой обе ноги. В этот момент я почувствовала, как над моей головой прошла автоматная очередь. А потом прямо рядом со мной упал немецкий автоматчик, который перед этим стрелял в меня. Его застрелил Володя, спас мне жизнь.
Наши бойцы подбили семь вражеских танков, остальные повернули назад. Только потом, по стечению многих лет, я осознала – какие же мы были молодые, глупые и отчаянно смелые. Бежали во весь рост на вражеские танки, вооруженные лишь винтовками и автоматами.
- Было, наверное, очень страшно?
Сначала, конечно, было очень страшно. Но потом ты погружался в какое-то оцепенение. Не замечая вокруг ничего постороннего, ты должен был выследить врага и уничтожить его. Бой целиком овладевал тобой, и было уже все равно. Страху ведь подвержен каждый, а вот хладнокровием и выдержкой обладают не все. Мне не раз приходилось переживать моменты страха. И я не стыжусь этого.
Однажды мне с двумя автоматчиками и связистом пришлось сопровождать нашего командира полка на наблюдательный пункт. Этим НП должен был стать подбитый накануне немецкий танк, находившийся на нейтральной зоне, метрах в 150 от нашего окопа. В темноте мы благополучно добрались до него и расположились под ним. Нас подстраховывали посты нашего боевого охранения. Оказалось, что немцы тоже вели наблюдение за танком, и наше пребывание под ним не прошло для них незамеченным. На рассвете мы уже собрались покинуть наш НП, когда заметили ползущих к нам немцев. Мы затаились. Автоматчики нашего боевого охранения открыли по неприятелю огонь. Мы молчали, хотя и велико было искушение стегануть по врагу из автоматов. Командир полка приказал огонь не открывать. Попытки наших пробраться к нам на выручку преграждались огнем противника. Так повторялось неоднократно. Лишь поздно вечером нам удалось выбраться из этой ловушки. И даже прихватить с собой раненого фашистского автоматчика, который сообщил, что им было дано задание переправить своих раненых танкистов, скрывавшихся под подбитым танком. Поэтому-то немцы по нас и не стреляли.
Говоря откровенно, лежать пассивно под танком и ждать своей участи было куда страшнее, чем непосредственно участвовать в бою. Я боялась. Мне было страшно не за то, что могли убить, страшно было попасть к немцам в плен. Только у своих я поняла, что нас спасла твердая выдержка, хладнокровие и рассудительность нашего комполка.
- Часто приходилось спасать чью-то жизнь?
Я не считала скольким бойцам и командирам я оказала помощь на поле боя, скольких спасла от смерти, сколько умерло на моих руках. Я не могла привыкнуть к этому и быть безразличной. Каждый раз ощущала тяжелую боль утраты, в чем-то виня себя.
Мне часто приходилось быть в числе сопровождавших полковое и дивизионное начальство при осмотре ими позиций и возвращении на командный пункт. Начальство всегда есть начальство, но и оно не одинаковое. Боялись всякого начальство, а уважали не всех. Я часто вспоминаю нашего комдива – Героя Советского Союза, генерал - майора Виктора Сергеевича Глебова. Он был очень смелым человеком, всегда устраивал свой командный пункт поближе к передовой. Бывая в нашем полку, он старался вникать во все солдатские дела и нужды. Приходя в окопы к бойцам, сам вступал с ними в разговор, просто и доходчиво объяснял обстановку, интересовался настроением, получаемыми письмами из дома. Солдаты любили его. Все знали его незаурядную храбрость, требовательность и справедливость. Подчиненные побаивались его, но уважали.
Так вышло, что я несколько раз спасала жизнь нашему генералу, укрывая его собой при бомбежке или артобстреле. Один раз спасла его от пули фашистского снайпера, заслоняя собой. Вражеская пуля, к счастью, прошла мимо, срезав мне клок мяса на подбородке.
Как-то, на одной из встреч однополчан, которая состоялась в г. Изюме, на Украине, Виктор Сергеевич Глебов, обращаясь к ветеранам, сказал: «Всем Вам большое спасибо, за то, что я жив! Моя жизнь была в ваших руках. Каждый из вас, оберегая меня, принимал вражеский удар на себя. Я никогда этого не забуду…».
- Был ли у Вас при себе солдатский медальон?
Да, одно время я носила с собой даже три таких медальона. Один лежал в гимнастерке, другой за отворотом зимней шапки. Третья записка была в колбочке от таблеток и лежала в медицинской сумке. Это было зимой, под Сталинградом. Я боялась, что меня убьют и не смогут опознать. Многие ребята их просто выбрасывали. После ранения, в 1943 году, медальоны я уже не носила.
- Какое у Вас было стрелковое оружие?
Помимо пистолета ТТ, я всегда старалась носить с собой ППШ.
- Какое ранение Вы получили, и как это произошло?
Я была легко ранена несколько раз и два раза контужена. Серьезно меня ранили 10 января 1943 года. В это время наша дивизия с боями наступала на Сталинград через Вертячий – Большая Россошка. В период артподготовки, перед броском в атаку, нашему командиру полка потребовалось переместиться на передний край. Я сопровождала эту группу офицеров. В одном месте, при переходе открытого пространства, по нас неожиданно ударил вражеский пулемет. Очередь ударила у самых наших ног, обдав жесткими крошками мерзлой земли. Все упали на землю. Я подсознательно бросилась к стоявшему во весь рост комполка. И в этот момент я почувствовала сильный удар в правую сторону шеи. Я упала и подумала – наверное, меня убили. Но раз я соображаю, значит еще не все. Подползти ко мне было не возможно – продолжал бить пулемет. На секунду я потеряла сознание. И в этот момент кто-то подхватил меня на руки и потащил в укрытие, в окоп. Это был сержант Саша Воронин. Он позвал санитаров, и меня перевязали. После этого меня доставили в медсанбат, а затем в госпиталь № 1678 в город Саратов. Пуля застряла в моей шее, в миллиметре от сонной артерии и уперлась в позвонок. Ее доставали без наркоза. После этого ранения у меня началось периодическое онемение всей правой стороны тела.
- После лечения Вам удалось вернуться в свою часть?
Меня выписали из госпиталя 15 марта 1943 года в запасной полк в г. Татищево Саратовской области. В свою часть мне удалось возвратиться только в июле 1943 года. Наша 27 гвардейская дивизия входила тогда в 8 гвардейскую армию под командованием генерал – лейтенанта В.И. Чуйкова, на Третьем Украинском фронте. В это время шли ожесточенные бои на реке Северный Донец, в районе г. Изюма, на Украине.
- Как Вы узнали, где находится Ваша часть?
Находясь в запасном полку, я получила от однополчан письмо, в котором мельком было отмечено: «…мы едим изюм…». Эта фраза повторялась несколько раз, и я все поняла. Тогда в письмах было запрещено писать наименования воинских частей и другую стратегическую информацию. За этим следила военная цензура.
- Как Вас кормили, например, под Сталинградом?
Горячую пищу – кашу, или похлебку, мы получали два раза в сутки. Пока темно, в 6 часов утра, мы завтракали. В 24 часа, когда уже темно, мы обедали. Днем каждый перебивался сам по себе – сухари, или что у кого осталось от завтрака. Костров разводить не разрешалось. Иногда, немецкими галетами и шоколадом меня подкармливали разведчики и связисты, я была с ними очень дружна.
- Получали ли Вы посылки с подарками от трудящихся тыла?
Да, я помню, однажды, мы получали такие посылочки. Это было под новый 1943 год, перед моим ранением. Там были вязаные варежки, шерстяные носки и три пачки папирос. Носки и две пачки папирос я отдала ребятам, потому что посылки достались не всем. Варежки оставила себе. Оставшуюся пачку сигарет скурили с девчонками в Саратовском госпитале. Так я научилась курить.
- Чем запомнился Новый 1943 год?
Накануне, ночью, ребята-разведчики, не смотря на запрет, развели в стороне несколько огромных костров. Думая, что это части окруженной группировки Паулюса, немецкие пилоты сбросили нам новогодние гостинцы в специальных контейнерах.
- Как Вы относились к вражеским пленным?
Чувство человечности, гуманизма свойственно русскому человеку. Оно пробивается, порой, даже через ненависть. Это случилось в районе Паньшино, под Сталинградом. Дело было уже ночью. Вместе с другими бойцами, я получила обед – его мне налили в котелок. И в этот момент меня срочно вызвали в блиндаж командира полка. Разведчики притащили «языка» - здоровенного фрица. При попытке к бегству, он был ранен в пятку. Я прибежала к блиндажу прямо со своим котелком. В ожидании допроса, в окопе сидел немец. Мне приказали сделать ему перевязку. Я увидела, какими голодными глазами, глотая слюну, смотрел немец, как едят наши солдаты. Чувство жалости заставило меня отдать ему свой котелок. В этот момент из блиндажа вышел подполковник Югатов.
На допросе фашист вел себя нагло, вызывающе. Он настойчиво требовал переливания крови, ссылаясь на большую ее потерю при ранении. Причем он нагло требовал влить ему русскую кровь, а не еврейскую. В своих речах гитлеровец ссылался на материалы международных соглашений о гуманном отношении воюющих сторон к раненым военнопленным. Это возмутило всех присутствующих.
Видимо, никакого толка от допроса фашиста не получилось. Командир полка принял решение расстрелять пленного. Обращаясь ко мне, подполковник сказал: «Боец Герасимова! Привести приговор в исполнение!». У меня затряслись руки и ноги, я немца-то живого так близко видела всего пару раз.
Со мной пошел адъютант командира полка. Он руководил моими действиями: «Достань пистолет, дошли патрон в ствол, прицелься. Если ты его не убьешь, мне приказали убить вас обоих. Нам такие вояки здесь не нужны…».
Мы выстрелили по врагу из двух пистолетов. Подойдя к трупу, увидели в его затылке два пулевых отверстия.
После этого, командир полка сказал мне: «Что это? Жалость? Благородство? Хотели перевоспитать? Или слабость женской натуры? А если бы Вы были в его руках? Что бы он сделал с Вами? Пожалел бы?». Этот разговор я запомнила на всю жизнь.
Не прошло и двух недель, как началось наше наступление. Под Котлубанью, преследуя отступающего противника, мы шли по большаку. На протяжении 2-3 километров мы насчитали 38 трупов наших военнопленных. Фашисты пристреливали тех, кто не в состоянии был идти. И все равно, к их пленным мы относились гораздо человечнее.
- Вашему полку, дивизии приходилось освобождать из плена советских солдат?
В памяти навсегда остался один такой случай. Значительно потеснив противника, захватив первую линию обороны врага и осваивая ее, разведчики обнаружили полуразрушенный сарай. Он стоял то ли в небольшой рощице, то ли в каком-то саду, я точно не помню, но был еще на ничейной зоне. В сарае находилась группа наших тяжелораненых солдат и офицеров, попавших в плен к врагу. Спешно отступая, фашисты не управились их уничтожить. Я получила приказ пробраться к раненым и оказать им первую медицинскую помощь, а если представится возможным, то переправить их в тыл. Я была потрясена увиденным. На голой земле, в грязи, лежали наши тяжелораненые бойцы. Многие были в беспамятстве, стонали, бредили, просили пить. Никогда не забуду, какими страдальческими глазами они смотрели на меня. Протягивая руки, они просили: «Сестричка, спаси! Родная, помоги!». По всему было видно, что они своевременно не получили никакой медицинской помощи. У одних раны даже не были забинтованы, гнили. У других были забинтованы кое-как, видимо, самими бойцами, кто, чем смог. В окровавленных бинтах, в тряпье, кишели вши. В гниющих ранах копошились черви. Оставшихся в живых я насчитала около тридцати человек. Всем им была оказана помощь. Танкисты помогли эвакуировать раненых в тыл, а меня доставили в мой полк.
- Расскажите еще какой-нибудь интересный случай?
К сожалению, память уже не позволяет расположить события в хронологическом порядке. Я могла бы рассказать множество различных случаев. Я не делю их по степени важности. На войне все главное. И победа, в целом, складывается из отдельных фактов, как следствий героических поступков отдельных личностей и целых воинских подразделений.
Вот, например, случай единоборства бойца нашего полка - Пашенцева с немецкими танками. Во время боя за хутор Вертячий, он находился в окопчике, расположенном за передним краем линии нашей обороны. Его задача заключалась в том, чтобы не допустить танки противника к передовой. Бойцу удалось на своем участке подбить из противотанкового ружья один танк противника. Второй он поджег бутылкой с горючей жидкостью. Третий танк, выскочив из стелящихся по земле клубов дыма, на большой скорости мчался прямо на Пашенцева. Уже на самом подходе, боец подбил и его. Танк всей своей многотонной тяжестью навалился на окопчик. Гусеницы с лязгом вздыбили под собой землю и застыли на месте. Пашенцева мы считали погибшим. И только на второй день, осматривая танки противника, увидели между гусениц подбитого танка, торчащую из земли голову. Ребята откопали Пашенцева, он был жив. Вот такие у нас были люди.
- Как вас встречало население освобожденных от врага областей?
Люди в освобожденных нами поселках и городках были очень счастливы, что мы их освободили. Они были нам очень благодарны и делились с бойцами последним куском хлеба.
Один такой эпизод произошел со мной на хуторе Перекопка, под Сталинградом. Преследуя противника, мы, не задерживаясь, шли вперед. Очень хотелось пить. Я подбежала к одной небольшой хатке и постучалась. Вышла молодая женщина и на мою просьбу напоить меня, вынесла в детской мисочке молока. Расставаясь, пожелала мне доброго здоровья. Просила передать солдатам спасибо за освобождение. Я ушла. Меня очень тронула ее радость, ее теплота и щедрость. Уже дорогой я подумала: «Может быть, она поделилась со мной последним глотком молока, за счет своего ребенка?». И мне стало неловко перед самой собой. Со временем этот случай был забыт.
В 1972 году я приехала в Волгоград на встречу с однополчанами. Одна из встреч проходила в здании школы в Перекопке. Зал не мог вместить всех пришедших. Многие стояли в коридоре, у открытых дверей. Я выступала с воспоминаниями и рассказала, что мне пришлось во время войны быть в Перекопке, и одна женщина напоила меня молоком из детской мисочки. Сидя затем в президиуме, я увидела в зале плачущую женщину. В перерыве она подошла ко мне в коридоре, причитая: «Родненькая моя! Выжила! Уцелела! Снова встретились!». Тут уже заплакала и я. Это была Полина Аристарховна Смерткина, та женщина, напоившая меня молоком. На прощанье Полина Аристарховна подарила мне белый пуховый платок, сказав: «Это Вам от казачек Дона! За наше освобождение!». Это до слез растрогало меня.
В то же время и мы повсеместно оказывали помощь гражданскому населению. Помню один случай, это было где-то в районе Красноармейска, на 3-м Украинском фронте. Штаб нашего полка расположился в только что освобожденном поселке. В распоряжение моего хозяйства был выделен небольшой домик. Там нами была обнаружена старушка с тяжелораненой внучкой лет семи. Фашистские изверги даже ребенку не могли оказать медицинской помощи. Девочка была в тяжелом состоянии и нуждалась в серьезном лечении, рана была запущена. Не смотря на непролазную грязь, я на своих плечах отнесла девчушку в наш полевой госпиталь, расположенный в лесу, в пяти километрах от поселка.
-
Мария Александровна, какими правительственными наградами Вы были награждены?
Помимо юбилейных медалей, посвященных годовщинам Победы и Советской Армии, я была награждена медалью «За боевые заслуги», это за бои под Сталинградом. А также медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».
- Где, когда и в каком звании Вы закончили войну?
В декабре 1943 года, когда шли бои на Украине, меня комиссовали в звании гвардии старшина медицинской службы. Стала отниматься вся правая сторона тела – давало о себе знать ранение в шею. Я возвратилась в Москву. С февраля 1944 года стала работать медицинской сестрой в санчасти Московского Военно-Пересыльного пункта.


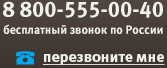

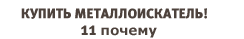




 Minelab
Minelab Garrett
Garrett AKA
AKA Fisher
Fisher Nokta
Nokta XP
XP Quest
Quest Whites
Whites Tesoro
Tesoro Teknetics
Teknetics Bounty H.
Bounty H. Sphinx
Sphinx
